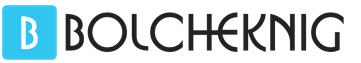Всадники неприступных гор текст. Гайдар аркадий петрович - всадники неприступных гор Гайдар всадники неприступных гор
Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто – привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.
И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.
Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг – зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.
И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.
Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.
Все это – глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.
Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, – пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.
А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет – батальоном. В 17 лет – пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет – в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.
Весною я окончил книгу . Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.
Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.
И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.
– Рита! – сказал я девушке, которую любил. – Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.
– Понятно, – сказала она, подумав немного, – понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.
– Рита, – ответил я резонно. – Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.
Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.
Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:
– Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.
– Рита, – ответил я твердо, – на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.
– А я что?
– А ты ничего. Ты будешь зачислена «в резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.
Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.
Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!
– В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично, – восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.
Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через «ять», хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:
– Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».
Николай нахмурился, хотя не знаю, что может он иметь против женотдела и революционных песен. Он наш – красный до подошвы, и в девятнадцатом, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.
Мартовской вьюжной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала.
Было почти пусто. Ежась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурный по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка.
– Мне не верится, – сказала Рита.
– Во что?
– В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно.
– А там так тепло. Идем в вагон.
Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу.
– Ты о чем? – спросил я, дергая его за рукав.
– Буран, вьюга. Не может быть, чтобы там цвели уже розы!
– Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уж зелень – это ясно.
– Я люблю цветы, – сказал Николай и осторожно взял Риту за руку.
– Я тоже, – ответила ему она и еще осторожней отняла руку.
– А ты? – И она посмотрела на меня. – Что ты любишь? Я ответил ей:
– Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя.
– Кого больше? – спросила она, улыбаясь. И я ответил:
– Не знаю.
А она сказала:
– Неправда! Ты должен знать. – И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи.
Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кзыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка.
Сначала мы жили в гостинице, потом перебрались в чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой, переполненной впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острою пылью солнечных лучей.
Тогда владелец чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной домбры-дютора поют тягучие, непонятные песни.
Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков и визг верблюдов да постукивание уличных кузнецов возле крытого базара.
Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.
– Мне нравится этот город, – сказал Николай. – Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.
– Неправда, – ответил я, бросая окурок. – Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тюбетеечных лавок полуразвалившегося базара узкоколейка. Возле коробочных лавок, в которых курят чилим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле союза Кошчи протянут красный плакат.
Николай с досадой отшвырнул окурок и ответил:
– Все это я знаю, и все это я вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат, и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае, не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седобородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонились синее знамя и конский хвост. Это красиво, по крайней мере потому, что здесь нет фальши, какая была бы, если бы туда поставили, взамен синего, красный флаг.
– Ты глуп, – ответил я ему спокойно. – У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью, и у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын-комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост Рамазана и лучше знает биографию Буденного, бравшего в девятнадцатом Воронеж, чем историю Тамерлана, пятьсот лет тому назад громившего Азию.
– Нет, нет, неправда! – горячо возразил Николай. – Ты как думаешь, Рита?
Она повернула к нему голову и ответила коротко:
– В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое…
Я улыбнулся.
– Ты, очевидно, ослепла от солнца, Рита, потому что…
Но в это время из-за поворота голубой тенью вышла закутанная в паранджу старая сгорбленная женщина. Увидев нас, она остановилась и гневно забормотала что-то, указывая пальцем на проломанный в стене каменный выход. Но мы, конечно, ничего не поняли.
– Гайдар, – сказал мне Николай, смущенно поднимаясь. – Может быть, тут нельзя… Может, это священный камень какой-то, а мы уселись на него и раскуриваем?
Мы встали и пошли. Попадали в тупики, шли узенькими улочками, по которым только-только могли разойтись двое, наконец, вышли на широкую окраину. Слева был небольшой обрыв, справа-холм, на котором сидели старики. Мы пошли по левой стороне, но вдруг с горы раздались крики и вой. Мы обернулись.
Старики, повскакав с мест, кричали нам что-то, размахивали руками и посохами.
– Гайдар, – сказал Николай, останавливаясь. – Может быть, тут нельзя, может быть, тут священное место какое?
– Глупости! – ответил я резко, – Какое тут священное место, когда кругом лошадиный навоз навален!..
Я не договорил, потому что Рита вскрикнула и испуганно отскочила назад, потом послышался треск, и Николай провалился по пояс в какую-то темную дыру. Мы еле успели вытащить его за руки, и, когда он выбрался, я заглянул вниз и понял все.
Мы давно уже свернули с дороги и шли по гнилой, засыпанной землей крыше караван-сарая. Внизу стояли верблюды, а вход в караван-сарай был со стороны обрыва.
Мы выбрались назад и, напутствуемые взглядами молчаливо рассевшихся опять и успокоившихся стариков, прошли дальше. Зашли опять в пустую и кривую улочку и вдруг за поворотом лицом к лицу столкнулись с молоденькой узбечкой. Она быстро накинула на лицо черную чадру, но не совсем, а наполовину; потом остановилась, посмотрела на нас из-под чадры и совершенно неожиданно откинула ее снова.
– Русский хорош, сарт плох.
Мы пошли рядом. Она почти ничего не знала по-русски, но все-таки мы разговаривали.
– И как они живут! – сказал мне Николай. – Замкнутые, оторванные от всего, запертые в стены дома. Все-таки какой дикий и неприступный еще Восток! Интересно узнать, чем она живет, чем интересуется…
– Погоди, – перебил я его. – Послушай, девушка, ты слыхала когда-нибудь про Ленина?
Она удивленно посмотрела на меня, ничего не понимая, а Николай пожал плечами.
– Про Ленина… – повторил я.
Вдруг счастливая улыбка заиграла на ее лице, и, довольная тем, что поняла меня, она ответила горячо:
– Лельнин, Лельнин знаю!.. – Она закивала головой, но не нашла подходящего русского слова и продолжала смеяться.
Потом насторожилась, кошкой отпрыгнула в сторону, глухо накинула чадру и, низко склонив голову, пошла вдоль стены мелкой торопливой походкой. У нее был, очевидно, хороший слух, потому что секунду спустя из-за поворота вышел тысячелетний мулла и, опершись на посох, он долго молча смотрел то на нас, то на голубую тень узбечки; вероятно, пытался что-то угадать, вероятно, угадывал, но молчал и тусклыми стеклянными глазами смотрел на двух чужеземцев и на европейскую девушку со смеющимся открытым лицом.
У Николая косые монгольские глаза, меленькая черная бородка и подвижное смуглое лицо. Он худой, жилистый и цепкий. Он на четыре года старше меня, но это ничего не значит. Он пишет стихи, которые никому не показывает, грезит девятнадцатым годом и из партии автоматически выбыл в двадцать втором.
И в качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за «погибающую» революцию. Таким образом, исполнив свой гражданский «долг», он умыл руки, отошел в сторону, чтобы с горечью наблюдать за надвигающейся, по его мнению, гибелью всего того, что он искренно любил и чем он жил до сих пор.
Но это бесцельное наблюдение скоро надоело ему. Погибель, несмотря на все его предчувствия, не приходила, и он вторично воспринял революцию, оставаясь, однако, при глубоком убеждении, что настанет время, настанут огневые годы, когда ценою крови придется исправлять ошибку, совершенную в двадцать первом проклятом году.
Он любит кабак и, когда выпьет, непременно стучит кулаком по столу и требует, чтобы музыканты играли революционно Буденновский марш: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы смело и гордо»… и т. д. Но так как марш этот по большей части не входит в репертуар увеселительных заведений, то он мирится на любимом цыганском романсе: «Эх, все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло».
Во время музыкального исполнения он пристукивает в такт ногой, расплескивает пиво и, что еще хуже, делает неоднократные попытки разорвать ворот рубахи. Но ввиду категорического протеста товарищей это ему удается не всегда, однако все пуговицы с ворота он все-таки ухитряется оборвать. Он душа-парень, хороший товарищ и недурной журналист.
И это все о нем.
Впрочем, еще: он любит Риту, любит давно и крепко. Еще с тех пор, когда Рита звенела напропалую бубном и разметывала по плечам волосы, исполняя цыганский танец Брамса – номер, вызывающий бешеные хлопки подвыпивших людей.
Я знаю, что про себя он зовет ее «девушкой из кабака», и это название ему страшно нравится, потому что оно… романтично.
Мы шли по полю, засыпанному обломками заплесневелого кирпича. Под ногами в земле лежали кости погребенных когда-то тридцати тысяч солдат Тамерлана. Поле было серое, сухое, то и дело попадались отверстия провалившихся могил, и серые каменные мыши при шорохе наших шагов бесшумно прятались в пыльные норы. Мы были вдвоем. Я и Рита. Николай исчез куда-то еще с раннего утра.
– Гайдар, – спросила меня Рита, – за что ты любишь меня?
Я остановился и удивленными глазами посмотрел на нее. Я не понял этого вопроса. Но Рита упрямо взяла меня за руку и настойчиво повторила вопрос.
– Сядем на камень, – предложил я. – Правда, здесь слишком жжет, но тени все равно нигде нет. Садись сюда, отдохни и не предлагай мне глупых вопросов.
Рита села, но не рядом со мной, а напротив. Резким ударом бамбуковой трости она сшибла колючий цветок у моих ног.
– Я не хочу, чтобы ты со мной так разговаривал. Я тебя спрашиваю, и ты должен отвечать.
– Рита! Есть вопросы, на которые трудно отвечать и которые к тому же не нужны и бесполезны.
– Я совсем не знаю, что тебе от меня надо? Когда со мной говорит Николай, я вижу, почему я ему нравлюсь, а когда молчишь ты, я ничего не вижу.
– А зачем тебе?
Рита откинула голову назад и, не жмурясь от солнца, посмотрела мне в лицо.
– Затем, чтобы сделать так, чтобы ты любил меня дольше.
– Хорошо, – ответил я. – Хорошо. Я подумаю и скажу тебе потом. А сейчас пойдем и заберемся на верхушку старой мечети, и оттуда нам будут видны сады всего Самарканда. Там обвалились каменные ступени лестницы, и ни с одной девушкой, кроме тебя, я не рискнул бы забраться туда.
Солнечные лучи мигом разгладили морщинки меж темных бровей Риты, и, оттолкнувшись рукой от моего плеча, скрывая улыбку, она прыгнула на соседний каменный утес.
Из песчаных пустынь с пересыпанных сахарным снегом горных вершин дул ветер. Он с яростью разласкавшегося щенка разматывал красный шарф Риты и теребил ее короткую серую юбку, забрасывая чуть-чуть выше колен. Но Рита… лишь смеется, захлебываясь слегка от ветра:
Я соглашаюсь. История тридцати тысяч истлевших скелетов мне сейчас менее нужна, чем одна теплая улыбка Риты.
И мы, смеясь, лезем на мечеть. На крутых изгибах темно и прохладно. Я чувствую, как Рита впереди меня останавливается, задерживаясь на минуту, и потом голова моя попадает в петлю ее гибких рук.
– Милый! Как хорошо, и какой чудный город Самарканд!..
А внизу под серыми плитами, под желтой землей, в многовековом покое спит в ржавчине неразглаженных морщин железный Тимур.
Деньги были на исходе. Но нас это мало огорчало, мы давно знали что рано или поздно, а придется остаться без них. Решили взять билеты до Бухары, и там будь что будет.
В лепестках осыпающегося урюка, зелени распускающихся садов качался потухающий диск вечернего солнца. Напоследок мы сидели на балконе, пропитанном пряным запахом душного вечера, и мирно болтали. Было спокойно и тепло. Впереди была дорога-длинная, загадочная, как дымка снеговых гор, поблескивающих белыми вершинами, как горизонты за желтым морем сыпучих песков, как и всякая другая, еще не пройденная и непережитая дорога.
– Черта с два! – сказал Николай, захлопывая записную книгу. – Разве меня заманишь теперь в Россию? Что такое Россия? Разве там есть что-нибудь подобное?… – И он неопределенно помахал рукой вокруг себя. – Все одно и то же, да одно и то же. Надоело, опротивело и вообще… Ты посмотри, посмотри только… Вон внизу старый шейх сидит у ворот, и борода у него свесилась до земли. Он напоминает мне колдуна из «Тысячи и одной ночи». Знаешь, как это там… ну, где Али-Ахмет…
– У хозяина сдачи взял? – перебил я его.
– Взял… Я сегодня легенду одну слышал. Старик рассказывал. Интересная. Хочешь, расскажу?
– Нет. Ты переврешь непременно и потом от себя половину прибавишь.
– Ерунда! – обиделся он. – Хочешь, Рита, я тебе расскажу?
Он уселся рядом с ней и, очевидно, подражая монотонному голосу рассказчика, начал говорить. Рита слушала вначале внимательно, но потом он увлек ее и убаюкал сказкой.
– Жил какой-то князь и любил одну красавицу. А красавица любила другого. После целого ряда ухищрений с целью склонить неприступную девушку он убивает ее возлюбленного. Тогда умирает с тоски и красавица, наказывая перед смертью похоронить ее рядом с любимым человеком. Ее желание исполняют. Но гордый князь убивает себя и назло приказывает похоронить себя между ними, и тогда… Выросли над крайними могилами две белые розы и, склоняя нежные стебли, ласково тянулись друг к другу. Но через несколько дней вырос посреди них дикий красный шиповник и… Так и после смерти его преступная любовь разъединила их. А кто прав, кто виноват – да рассудит в судный день великий Аллах…
Когда Николай кончил рассказывать, глаза его блестели, а рука крепко сжимала руку Риты.
– Нет теперь такой любви, – не то насмешливо, не то с горечью, медленно и лениво ответила Рита.
– Есть… Есть, Рита! – горячо возразил он. – Есть люди, которые способны… – Но он оборвал и замолчал.
– Уж не на свои ли способности ты намекаешь? – дружески похлопывая его по плечу, сказал я, вставая. – Пойдемте спать, завтра подниматься рано.
Николай вышел. Рита осталась.
– Погоди, – сказала она, потянув меня за рукав. – Сядь со мной, посиди немного.
Я сел. Она молчала.
– Ты недавно обещал сказать мне, за что ты любишь меня. Скажи!..
Я был поражен. Я думал, что это был минутный каприз, и забыл про него; я совсем не готовился к ответу, а потому и сказал наугад:
– За что? Какая ты чудачка, Рита! За то, что ты молода, за то, что ты хорошо бегаешь на лыжах, за то, что любишь меня, за твои смеющиеся глаза и за строгие черточки бровей и, наконец, потому, что надо же кого-нибудь любить.
– Кого-нибудь! Значит, тебе все равно?
– Почему же все равно?
– Значит, если бы ты не встретил меня, то все равно любил бы сейчас кого-нибудь?
– Возможно…
Рита замолчала, потянулась рукой к цветам, и я услышал, как хрустнула в темноте обломанная веточка урюка.
– Послушай, – сказала она, – а ведь так нехорошо как-то выходит. Как будто у животных. Пришла пора – значит, хочешь не хочешь, а люби. По-твоему так выходит!
– Рита, – ответил я, вставая, – по-моему выходит, что за последние дни ты странно подозрительна и нервна. Я не знаю, отчего это. Может быть, тебе нездоровится, а может быть, ты беременна?
Она вспыхнула. Снова захрустела разломанная на куски веточка. Рита встала и стряхнула с подола накрошенные прутья.
– Ты говоришь глупости! Ты всегда и во всем найдешь гадость. Ты в душе черствый и сухой человек!
Тогда я посадил ее к себе на колени и не отпускал до тех пор, пока она не убедилась, что я не так черств и сух, как это ей казалось.
В пути, в темном вагоне четвертого класса кто-то украл у нас чемодан с вещами.
Обнаружил эту пропажу Николай. Проснувшись ночью, он пошарил по верхней полке, выругался несколько раз, потом растолкал меня:
– Вставай, вставай же! Где наш чемодан? Его нет!
– Украли, что ли? – сквозь сон спросил я, приподнимаясь на локоть. – Печально. Давай закурим.
Закурили.
– Скотство какое! Есть же такие проходимцы. Если бы я заметил, я бы разбил сукину сыну всю морду. Надо проводнику сказать. Крадет свечи, подлец, и темно в вагоне… Да чего же ты молчишь?
Проснулась Рита. Выругала нас обоих идиотами, потом заявила, что она видит интересный сон, и, чтобы ей не мешали, укрылась одеялом, и повернулась на другой бок.
Слух о пропавшем чемодане обошел все углы вагона. Люди просыпались, испуганно бросались к своим вещам и, обнаружив их на месте, вздыхали облегченно.
– У кого украли? – спрашивал в темноте кто-то.
– Вон у этих, на средней полке.
– Ну что ж они?
– Ничего, лежат и курют.
Вагон оживился. Пришел проводник со свечами, начались рассказы очевидцев, потерпевших и сомневающихся. Разговоров должно было хватить на всю ночь. Отдельные лица пробовали выразить нам сочувствие и соболезнование. Рита крепко спала и улыбалась чему-то во сне. Возмущенный Николай вступил в пререкания с проводником, обвиняя того в стяжательстве и корыстолюбии, а я вышел на площадку вагона.
Снова закурил и высунулся в окно.
Огромный диск луны висел над пустыней японским фонарем. Песчаные холмы, убегающие к далеким горизонтам, были пересыпаны голубой лунной пылью, чахлый кустарник в каменном безветрии замер и не гнулся.
Раздуваемая ветром мчащихся вагонов, папироса истлела и искурилась в полминуты. Позади послышался кашель, я обернулся и только сейчас заметил, что на площадке я не один. Предо мной стоял человек в плаще и в одной из тех широких дырявых шляп, какие часто носят пастухи южных губерний. Сначала он показался мне молодым. Но, приглядевшись, я заметил, что его плохо выбритое лицо покрыто глубокими морщинами и дышит он часто и не ровно.
– Разрешите, молодой человек, папиросу? – вежливо, но вместе с тем требовательно проговорил он.
Я дал. Он закурил и откашлялся.
– Слышал я, что случилось с вами несчастье. Конечно, подло. Но обратите внимание на то, что теперь покражи на дорогах, да и не только на дорогах, а и везде, стали обычным явлением. Народ потерял всякое представление о законе, о нравственности, о чести и порядочности.
Он откашлялся, высморкался в огромный платок и продолжал:
– Да и что с народа спрашивать, если сами стоящие у власти подали в свое время пример, узаконив грабеж и насилие?
Я насторожился.
– Да, да, – с внезапной резкостью опять продолжал он. – Все разломали, натравили массы: бери, мол, грабь. А теперь видите, к чему привели… Тигр, попробовавший крови, яблоками питаться не станет! Так и тут. Грабить чужого больше нечего. Все разграблено, так теперь друг на друга зубы точат. Было ли раньше воровство? Не отрицаю. Но тогда воровал кто? Вор, профессионал, а теперь – самый спокойный человек нет-нет да и подумает: а нельзя ли мне моего соседа нагреть? Да, да… Вы не перебивайте, молодой человек, я старше вас! И не смотрите подозрительно, я не боюсь. Я привык уже. Меня в свое время таскали и в ЧК, и в ГПУ, и я прямо говорю: ненавижу, но бессилен. Контрреволюционер, но ничего не могу. Стар и слаб. А был бы молод, сделал бы все, что можно, в защиту порядка и чести… Князь Оссовецкий, – меняя голос, отрекомендовался он. – И заметьте, не бывший, как это теперь пишут многие прохвосты, пристроившиеся на службу, а настоящий. Каким родился, таким и умру. Я и сам мог бы, но не хочу. Я старый коннозаводчик, специалист. Меня приглашали в ваш Наркомзем, но я не пошел – там сидят дворовые моего деда, и я сказал: нет, я беден, но я горд.
Часть первая
Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто – привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.
И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.
Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг – зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.
И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.
Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.
Все это – глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.
Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, – пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.
А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет – батальоном. В 17 лет – пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет – в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.
Весною я окончил книгу . Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.
Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.
И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.
– Рита! – сказал я девушке, которую любил. – Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.
– Понятно, – сказала она, подумав немного, – понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.
– Рита, – ответил я резонно. – Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.
Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.
Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:
– Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.
– Рита, – ответил я твердо, – на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.
– А я что?
– А ты ничего. Ты будешь зачислена «в резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.
Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.
Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!
– В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично, – восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.
Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через «ять», хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:
– Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».
Николай нахмурился, хотя не знаю, что может он иметь против женотдела и революционных песен. Он наш – красный до подошвы, и в девятнадцатом, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.
Мартовской вьюжной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала.
Было почти пусто. Ежась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурный по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка.
– Мне не верится, – сказала Рита.
– Во что?
– В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно.
– А там так тепло. Идем в вагон.
Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу.
– Ты о чем? – спросил я, дергая его за рукав.
– Буран, вьюга. Не может быть, чтобы там цвели уже розы!
– Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уж зелень – это ясно.
– Я люблю цветы, – сказал Николай и осторожно взял Риту за руку.
– Я тоже, – ответила ему она и еще осторожней отняла руку.
– А ты? – И она посмотрела на меня. – Что ты любишь? Я ответил ей:
– Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя.
– Кого больше? – спросила она, улыбаясь. И я ответил:
– Не знаю.
А она сказала:
– Неправда! Ты должен знать. – И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи.
Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кзыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка.
Сначала мы жили в гостинице, потом перебрались в чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой, переполненной впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острою пылью солнечных лучей.
Тогда владелец чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной домбры-дютора поют тягучие, непонятные песни.
Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков и визг верблюдов да постукивание уличных кузнецов возле крытого базара.
Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.
– Мне нравится этот город, – сказал Николай. – Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.
– Неправда, – ответил я, бросая окурок. – Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тюбетеечных лавок полуразвалившегося базара узкоколейка. Возле коробочных лавок, в которых курят чилим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле союза Кошчи протянут красный плакат.
Николай с досадой отшвырнул окурок и ответил:
– Все это я знаю, и все это я вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат, и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае, не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седобородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонились синее знамя и конский хвост. Это красиво, по крайней мере потому, что здесь нет фальши, какая была бы, если бы туда поставили, взамен синего, красный флаг.
– Ты глуп, – ответил я ему спокойно. – У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью, и у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын-комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост Рамазана и лучше знает биографию Буденного, бравшего в девятнадцатом Воронеж, чем историю Тамерлана, пятьсот лет тому назад громившего Азию.
– Нет, нет, неправда! – горячо возразил Николай. – Ты как думаешь, Рита?
Она повернула к нему голову и ответила коротко:
– В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое…
Я улыбнулся.
– Ты, очевидно, ослепла от солнца, Рита, потому что…
Но в это время из-за поворота голубой тенью вышла закутанная в паранджу старая сгорбленная женщина. Увидев нас, она остановилась и гневно забормотала что-то, указывая пальцем на проломанный в стене каменный выход. Но мы, конечно, ничего не поняли.
– Гайдар, – сказал мне Николай, смущенно поднимаясь. – Может быть, тут нельзя… Может, это священный камень какой-то, а мы уселись на него и раскуриваем?
Мы встали и пошли. Попадали в тупики, шли узенькими улочками, по которым только-только могли разойтись двое, наконец, вышли на широкую окраину. Слева был небольшой обрыв, справа-холм, на котором сидели старики. Мы пошли по левой стороне, но вдруг с горы раздались крики и вой. Мы обернулись.
Старики, повскакав с мест, кричали нам что-то, размахивали руками и посохами.
– Гайдар, – сказал Николай, останавливаясь. – Может быть, тут нельзя, может быть, тут священное место какое?
– Глупости! – ответил я резко, – Какое тут священное место, когда кругом лошадиный навоз навален!..
Я не договорил, потому что Рита вскрикнула и испуганно отскочила назад, потом послышался треск, и Николай провалился по пояс в какую-то темную дыру. Мы еле успели вытащить его за руки, и, когда он выбрался, я заглянул вниз и понял все.
Мы давно уже свернули с дороги и шли по гнилой, засыпанной землей крыше караван-сарая. Внизу стояли верблюды, а вход в караван-сарай был со стороны обрыва.
Мы выбрались назад и, напутствуемые взглядами молчаливо рассевшихся опять и успокоившихся стариков, прошли дальше. Зашли опять в пустую и кривую улочку и вдруг за поворотом лицом к лицу столкнулись с молоденькой узбечкой. Она быстро накинула на лицо черную чадру, но не совсем, а наполовину; потом остановилась, посмотрела на нас из-под чадры и совершенно неожиданно откинула ее снова.
– Русский хорош, сарт плох.
Мы пошли рядом. Она почти ничего не знала по-русски, но все-таки мы разговаривали.
– И как они живут! – сказал мне Николай. – Замкнутые, оторванные от всего, запертые в стены дома. Все-таки какой дикий и неприступный еще Восток! Интересно узнать, чем она живет, чем интересуется…
– Погоди, – перебил я его. – Послушай, девушка, ты слыхала когда-нибудь про Ленина?
Она удивленно посмотрела на меня, ничего не понимая, а Николай пожал плечами.
– Про Ленина… – повторил я.
Вдруг счастливая улыбка заиграла на ее лице, и, довольная тем, что поняла меня, она ответила горячо:
– Лельнин, Лельнин знаю!.. – Она закивала головой, но не нашла подходящего русского слова и продолжала смеяться.
Потом насторожилась, кошкой отпрыгнула в сторону, глухо накинула чадру и, низко склонив голову, пошла вдоль стены мелкой торопливой походкой. У нее был, очевидно, хороший слух, потому что секунду спустя из-за поворота вышел тысячелетний мулла и, опершись на посох, он долго молча смотрел то на нас, то на голубую тень узбечки; вероятно, пытался что-то угадать, вероятно, угадывал, но молчал и тусклыми стеклянными глазами смотрел на двух чужеземцев и на европейскую девушку со смеющимся открытым лицом.
У Николая косые монгольские глаза, меленькая черная бородка и подвижное смуглое лицо. Он худой, жилистый и цепкий. Он на четыре года старше меня, но это ничего не значит. Он пишет стихи, которые никому не показывает, грезит девятнадцатым годом и из партии автоматически выбыл в двадцать втором.
И в качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за «погибающую» революцию. Таким образом, исполнив свой гражданский «долг», он умыл руки, отошел в сторону, чтобы с горечью наблюдать за надвигающейся, по его мнению, гибелью всего того, что он искренно любил и чем он жил до сих пор.
ВСАДНИКИ НЕПРИСТУПНЫХ ГОР
Повесть
Гайдар А. П.
Г 14 Лес-ные братья. Ран-ние прик-лю-чен-чес-кие по-вес-ти /Сост., пос-лесл., прим. и подг. тек-с-та А. Г. Ни-ки-ти-на; Ил. А. К. Яц-ке-ви-ча.-М.: Прав-да, 1987.-432 с, ил.
В кни-ге впер-вые соб-ра-ны вмес-те ран-ние прик-лю-чен-чес-кие по-вес-ти Ар-ка-дия Гай-да-ра, на-пи-сан-ные в двад-ца-тые го-ды. В их чис-ле про-из-ве-де-ния, ко-то-рые не пе-ча-та-лись мно-гие де-ся-ти-ле-тия. Это "Жизнь ни во что (Лбов-щи-на)" и про-дол-жа-ющая ее по-весть "Лес-ные братья (Да-вы-дов-щи-на)", по-весть "Всад-ни-ки неп-рис-туп-ных гор" и фан-тас-ти-чес-кий ро-ман "Тай-на го-ры". Здесь же пе-ча-та-ют-ся по-весть "На граф-с-ких раз-ва-ли-нах" и ран-ний пол-ный ва-ри-ант по-вес-ти "Рев-во-ен-со-вет", пред-наз-на-чен-ный для взрос-ло-го чи-та-те-ля.
Прик-лю-чен-чес-кая по-весть от-ра-зи-ла впе-чат-ле-ния от пу-те-шес-т-вия Гай-да-ра по Сред-ней Азии и Кав-ка-зу вес-ной 1926 го-да. От-рыв-ки из по-вес-ти пуб-ли-ко-ва-лись в пер-м-с-кой га-зе-те "Звез-да" (с 5 по 18 де-каб-ря 1926 го-да) под пер-во-на-чаль-ным наз-ва-ни-ем "Ры-ца-ри неп-рис-туп-ных гор". Це-ли-ком по-весть из-да-на в 1927 го-ду в Ле-нин-г-рад-с-ком от-де-ле-нии из-да-тель-с-т-ва "Мо-ло-дая гвар-дия". С тех пор не пе-ре-из-да-ва-лась. Для нас-то-яще-го сбор-ни-ка в ос-но-ву по-ло-жен текст ле-нин-г-рад-с-ко-го из-да-ния.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Вот уже во-семь лет, как я рыс-каю по тер-ри-то-рии быв-шей Рос-сий-ской им-пе-рии. У ме-ня нет це-ли тща-тель-но ис-сле-до-вать каж-дый за-ко-улок и всес-то-рон-не изу-чить всю стра-ну. У ме-ня прос-то - при-выч-ка. Ниг-де я не сплю так креп-ко, как на жес-т-кой пол-ке ка-ча-юще-го-ся ва-го-на, и ни-ког-да я не бы-ваю так спо-ко-ен, как у рас-пах-ну-то-го ок-на ва-гон-ной пло-щад-ки, ок-на, в ко-то-рое вры-ва-ет-ся све-жий ноч-ной ве-тер, бе-ше-ный стук ко-лес, да чу-гун-ный рев ды-ша-ще-го ог-нем и ис-к-ра-ми па-ро-во-за.
И ког-да слу-ча-ет-ся мне по-пасть в до-маш-нюю спо-кой-ную об-с-та-нов-ку, я, вер-нув-ший-ся из оче-ред-но-го пу-те-шес-т-вия, по обык-но-ве-нию, из-мо-тан-ный-, изор-ван-ный и ус-тав-ший-, нас-лаж-да-юсь мяг-ким по-ко-ем ком-нат-ной ти-ши-ны, ва-ля-юсь, не сни-мая са-пог, по ди-ва-нам, по кро-ва-тям и, оку-тав-шись по-хо-жим на ла-дан си-ним ды-мом тру-боч-но-го та-ба-ка, кля-нусь се-бе мыс-лен-но, что эта по-ез-д-ка бы-ла пос-лед-нею, что по-ра ос-та-но-вить-ся, при-вес-ти все пе-ре-жи-тое в сис-те-му и на се-ро-зе-ле-ном лан-д-шаф-те спо-кой-но-ле-ни-вой ре-ки Ка-мы дать от-дох-нуть гла-зам от яр-ко-го блес-ка лу-чей сол-неч-ной до-ли-ны Мцхе-та или от жел-тых пес-ков пус-ты-ни Ка-ра-Кум, от рос-кош-ной зе-ле-ни паль-мо-вых пар-ков Чер-но-мор-с-ко-го по-бе-режья, от сме-ны лиц и, глав-ное, от сме-ны впе-чат-ле-ний.
Но про-хо-дит не-де-ля-дру-гая, и ок-ра-шен-ные об-ла-ка по-ту-ха-юще-го го-ри-зон-та, как ка-ра-ван вер-б-лю-дов, от-п-рав-ля-ющих-ся че-рез пес-ки в да-ле-кую Хи-ву, на-чи-на-ют сно-ва зве-неть мо-но-тон-ны-ми мед-ны-ми бу-бен-ца-ми. Па-ро-воз-ный гу-док, до-но-ся-щий-ся из-за да-ле-ких ва-силь-ко-вых по-лей-, ча-ще и ча-ще на-по-ми-на-ет мне о том, что се-ма-фо-ры от-к-ры-ты. А ста-ру-ха-жизнь, под-ни-мая в мор-щи-нис-тых креп-ких ру-ках зе-ле-ный флаг - зе-ле-ную ширь бес-к-рай-них по-лей-, по-да-ет сиг-нал о том, что на пре-дос-тав-лен-ном мне учас-т-ке путь сво-бо-ден.
И тог-да окан-чи-ва-ет-ся сон-ный по-кой раз-ме-рен-ной по ча-сам жиз-ни и спо-кой-ное ти-канье пос-тав-лен-но-го на во-семь ут-ра бу-диль-ни-ка.
Пусть толь-ко не по-ду-ма-ет кто-ли-бо, что мне скуч-но и не-ку-да де-вать се-бя и что я, по-доб-но ма-ят-ни-ку, ша-та-юсь взад и впе-ред толь-ко для то-го, что-бы в мо-но-тон-ном ука-чи-ва-нии одур-ма-нить не зна-ющую, что ей на-до, го-ло-ву.
Все это - глупости. Я знаю, что мне на-до. Мне 23 го-да, и объ-ем мо-ей гру-ди ра-вен де-вя-нос-то шес-ти сан-ти-мет-рам, и я лег-ко вы-жи-маю ле-вой ру-кой двух-пу-до-вую ги-рю.
Мне хо-чет-ся до то-го вре-ме-ни, ког-да у ме-ня в пер-вый раз по-явит-ся нас-морк или ка-кая-ни-будь дру-гая бо-лезнь, об-ре-ка-ющая че-ло-ве-ка на не-об-хо-ди-мость ло-жить-ся ров-но в де-вять, пред-ва-ри-тель-но при-няв по-ро-шок ас-пи-ри-на,-по-ка не нас-ту-пит этот пе-ри-од, как мож-но боль-ше пе-ре-вер-теть-ся, пе-рек-ру-тить-ся в во-до-во-ро-те с тем, что-бы на зе-ле-ный бар-хат-ный бе-рег выб-ро-си-ло ме-ня по-ряд-ком уже из-му-чен-ным, ус-та-лым, но гор-дым от соз-на-ния сво-ей си-лы и от соз-на-ния то-го, что я ус-пел раз-г-ля-деть и уз-нать боль-ше, чем за это же вре-мя уви-де-ли и уз-на-ли дру-гие.
А по-то-му я и то-роп-люсь. И по-то-му, ког-да мне бы-ло 15 лет, я ко-ман-до-вал уже 4-й ро-той бри-га-ды кур-сан-тов, ох-ва-чен-ной коль-цом зме-иной пет-лю-ров-щи-ны. В 16 лет - ба-таль-оном. В 17 лет - пять-де-сят вось-мым осо-бым пол-ком, а в 20 лет - в пер-вый раз по-пал в пси-хи-ат-ри-чес-кую ле-чеб-ни-цу.
Весною я окон-чил кни-гу (Речь идет о по-вес-ти "Жизнь ни во что (Лбов-щи-на)", ко-то-рой от-к-ры-ва-ет-ся нас-то-ящий сбор-ник ). Два об-с-то-ятель-с-т-ва на-тал-ки-ва-ли ме-ня на мысль уехать ку-да-ли-бо. Во-пер-вых, от ра-бо-ты ус-та-ла го-ло-ва, во-вто-рых, воп-ре-ки при-су-ще-му всем издательствам ско-пи-дом-с-т-ву день-ги на этот раз зап-ла-ти-ли без вся-кой ка-ни-те-ли и все сра-зу.
Я ре-шил уехать за гра-ни-цу. Две не-де-ли для прак-ти-ки я изъ-яс-нял-ся со все-ми, вплоть до ре-дак-ци-он-ной курь-ер-ши, на не-ко-ем язы-ке, име-ющем, ве-ро-ят-но, весь-ма смут-ное сход-с-т-во с язы-ком оби-та-те-лей Фран-ции. И на третью не-де-лю я по-лу-чил в ви-зе от-каз.
И вмес-те с пу-те-во-ди-те-лем по Па-ри-жу я выш-выр-нул из го-ло-вы до-са-ду за не-ожи-дан-ную за-дер-ж-ку.
Рита! -ска-зал я де-вуш-ке, ко-то-рую лю-бил. -Мы по-едем с то-бой в Сред-нюю Азию. Там есть го-ро-да Таш-кент, Са-мар-канд, а так-же ро-зо-вый урюк, се-рые иша-ки и вся-кая та-кая про-чая эк-зо-ти-ка. Мы по-едем ту-да пос-ле-зав-т-ра ночью со ско-рым, и мы возь-мем с со-бой Коль-ку.
Понятно, -сказала она, по-ду-мав нем-но-го, -по-нят-но, что пос-ле-зав-т-ра, что в Азию, но не-по-нят-но, за-чем брать с со-бой Коль-ку.
Рита, -ответил я ре-зон-но. -Во-пер-вых, Коль-ка лю-бит те-бя, во-вто-рых, он хо-ро-ший па-рень, а в-треть-их, ког-да че-рез три не-де-ли у нас не бу-дет ни ко-пей-ки де-нег, то ты не ста-нешь ску-чать, по-ка один из нас бу-дет го-нять-ся за едой ли-бо за день-га-ми на еду.
Рита зас-ме-ялась в от-вет, и, по-ка она сме-ялась, я по-ду-мал, что ее зу-бы впол-не при-год-ны для то-го, что-бы раз-г-рызть су-хой по-ча-ток ку-ку-ру-зы, ес-ли бы в том слу-чи-лась нуж-да.
Она по-мол-ча-ла, по-том по-ло-жи-ла мне ру-ку на пле-чо и ска-за-ла:
Хорошо. Но пусть толь-ко он на все вре-мя пу-ти вы-ки-нет из го-ло-вы фан-та-зии о смыс-ле жиз-ни и про-чих ту-ман-ных ве-щах. Ина-че мне все-та-ки бу-дет скуч-но.
Рита, -ответил я твер-до, -на все вре-мя пу-ти он вы-ки-нет из го-ло-вы вы-ше-оз-на-чен-ные мыс-ли, а так-же не бу-дет дек-ла-ми-ро-вать те-бе сти-хи Есе-ни-на и про-чих сов-ре-мен-ных по-этов. Он бу-дет со-би-рать дро-ва для кос-т-ра и ва-рить ка-шу. А я возь-му на се-бя все ос-таль-ное.
А ты ни-че-го. Ты бу-дешь за-чис-ле-на "в ре-зерв Крас-ной Ар-мии и Фло-та" до тех пор, по-ка об-с-то-ятель-с-т-ва не пот-ре-бу-ют тво-ей по-силь-ной по-мо-щи.
Рита по-ло-жи-ла мне вто-рую ру-ку на вто-рое пле-чо и прис-таль-но пос-мот-ре-ла мне в гла-за.
Я не знаю, что это у нее за при-выч-ка заг-ля-ды-вать в чу-жие ок-на!
В Уз-бе-кис-та-не жен-щи-ны хо-дят с зак-ры-ты-ми ли-ца-ми. Там цве-тут уже са-ды. В дым-ных чай-ха-нах пе-ре-ви-тые тюр-ба-на-ми уз-бе-ки ку-рят чи-лим и по-ют вос-точ-ные пес-ни. Кро-ме то-го, там есть мо-ги-ла Та-мер-ла-на. Все это, дол-ж-но быть, очень по-этич-но, -вос-тор-жен-но го-во-рил мне Ни-ко-лай-, зак-ры-вая стра-ни-цы эн-цик-ло-пе-ди-чес-ко-го сло-ва-ря.
Но сло-варь был вет-хий-, древ-ний-, а я от-вык ве-рить все-му, что на-пи-са-но с твер-ды-ми зна-ка-ми и че-рез "ять", хо-тя бы это был учеб-ник ариф-ме-ти-ки, ибо дваж-ды и триж-ды за пос-лед-ние го-ды сло-мал-ся мир. И я от-ве-тил ему:
Могила Та-мер-ла-на, ве-ро-ят-но, так и ос-та-лась мо-ги-лою, но в Са-мар-кан-де уже есть же-нот-дел, ко-то-рый сры-ва-ет чад-ру, ком-со-мол, ко-то-рый не приз-на-ет ве-ли-ко-го праз-д-ни-ка ура-за-бай-рам, а по-том, ве-ро-ят-но, нет ни од-но-го мес-та на тер-ри-то-рии СССР, где бы в ущерб на-ци-ональ-ным пес-ням не рас-пе-ва-лись "Кир-пи-чи-ки".
Николай нах-му-рил-ся, хо-тя не знаю, что мо-жет он иметь про-тив же-нот-де-ла и ре-во-лю-ци-он-ных пе-сен. Он наш - крас-ный до по-дош-вы, и в де-вят-над-ца-том, бу-ду-чи с ним в до-зо-ре, мы бро-си-ли од-наж-ды пол-ную не-до-еден-ную мис-ку га-лу-шек, по-то-му что по-ра было ид-ти со-об-щать о ре-зуль-та-тах раз-вед-ки сво-им.
Мартовской вьюж-ной ночью хлопь-ями бил снег в дро-жа-щие стек-ла мча-ще-го-ся ва-го-на. Са-ма-ру про-ез-жа-ли в пол-ночь. Был бу-ран, и мо-роз-ный ве-тер швы-рял-ся льдин-ка-ми в ли-цо, ког-да я и Ри-та выш-ли на пер-рон вок-за-ла.
Было поч-ти пус-то. Ежась от хо-ло-да, пря-тал в во-рот-ник крас-ную фу-раж-ку де-жур-ный по стан-ции, да вок-заль-ный сто-рож дер-жал ру-ку на-го-то-ве у ве-рев-ки звон-ка.
Мне не ве-рит-ся, -ска-за-ла Ри-та.
А там так теп-ло. Идем в ва-гон.
Николай сто-ял у ок-на, чер-тил что-то паль-цем по стек-лу.
Ты о чем?- спро-сил я, дер-гая его за ру-кав.
Буран, вьюга. Не мо-жет быть, что-бы там цве-ли уже ро-зы!
Вы оба об од-ном и том же. Я не знаю ни-че-го про ро-зы, но что там уж зе-лень - это яс-но.
Я люб-лю цве-ты, -ска-зал Ни-ко-лай и ос-то-рож-но взял Ри-ту за ру-ку.
Я то-же,- от-ве-ти-ла ему она и еще ос-то-рож-ней от-ня-ла руку.
А ты? -И она пос-мот-ре-ла на ме-ня. -Что ты лю-бишь? Я от-ве-тил ей:
Я люб-лю свою шаш-ку, ко-то-рую снял с уби-то-го поль-с-ко-го ула-на, и люб-лю те-бя.
Кого боль-ше? -спро-си-ла она, улы-ба-ясь. И я от-ве-тил:
Не знаю.
А она ска-за-ла:
Неправда! Ты дол-жен знать. -И, нах-му-рив-шись, се-ла у ок-на, в ко-то-рое мяг-ко би-лись пе-ре-сы-пан-ные снеж-ны-ми цве-та-ми чер-ные во-ло-сы зим-ней но-чи.
Поезд до-го-нял вес-ну с каж-дой но-вой сот-ней верст. У Орен-бур-га бы-ла сля-коть. У Кзыл-Орды бы-ло су-хо. Воз-ле Таш-кен-та сте-пи бы-ли зе-ле-ны. А Са-мар-канд, пе-ре-пу-тан-ный ла-би-рин-та-ми гли-ня-ных стен, пла-вал в ро-зо-вых ле-пес-т-ках уже от-ц-ве-та-юще-го урю-ка.
Сначала мы жи-ли в гос-ти-ни-це, по-том пе-реб-ра-лись в чай-ха-ну. Днем бро-ди-ли по узень-ким сле-пым ули-цам стран-но-го вос-точ-но-го го-ро-да. Воз-в-ра-ща-лись к ве-че-ру утом-лен-ные, с го-ло-вой-, пе-ре-пол-нен-ной впе-чат-ле-ни-ями, с ли-ца-ми, но-ющи-ми от за-га-ра, и с гла-за-ми, за-сы-пан-ны-ми ос-т-рою пылью сол-неч-ных лу-чей.
Тогда вла-де-лец чай-ха-ны рас-сти-лал крас-ный ко-вер на боль-ших под-мос-т-ках, на ко-то-рых днем уз-бе-ки, сом-к-нув-шись коль-цом, мед-лен-но пьют жид-кий кок-чай-, пе-ре-да-вая чаш-ку по кру-гу, едят ле-пеш-ки, гус-то пе-ре-сы-пан-ные ко-ноп-ля-ным се-ме-нем, и под мо-но-тон-ные зву-ки двух-с-т-рун-ной дом-б-ры-дю-то-ра по-ют тя-гу-чие, не-по-нят-ные пес-ни.
Как- то раз мы бро-ди-ли по ста-ро-му го-ро-ду и приш-ли ку-да-то к раз-ва-ли-нам од-ной из древ-них ба-шен. Бы-ло ти-хо и пус-то. Из-да-ле-ка до-но-сил-ся рев иша-ков и визг вер-б-лю-дов да пос-ту-ки-ва-ние улич-ных куз-не-цов воз-ле кры-то-го ба-за-ра.
Мы с Ни-ко-ла-ем се-ли на боль-шой бе-лый ка-мень и за-ку-ри-ли, а Ри-та лег-ла на тра-ву и, под-с-та-вив сол-н-цу ли-цо, заж-му-ри-лась.
Неправда,- от-ве-тил я, бро-сая оку-рок.- Ты фан-та-зи-ру-ешь. Из ев-ро-пей-ской час-ти го-ро-да уже до-би-ра-ет-ся до тю-бе-те-еч-ных ла-вок по-лу-раз-ва-лив-ше-го-ся ба-за-ра уз-ко-ко-лей-ка. Воз-ле ко-ро-боч-ных ла-вок, в ко-то-рых ку-рят чи-лим сон-ные тор-гов-цы, я ви-дел уже вы-вес-ки ма-га-зи-нов гос-тор-га, а по-пе-рек ули-цы воз-ле со-юза Кош-чи про-тя-нут крас-ный пла-кат.
Николай с до-са-дой от-ш-выр-нул оку-рок и от-ве-тил:
Все это я знаю, и все это я ви-жу сам. Но к гли-ня-ным сте-нам пло-хо лип-нет крас-ный пла-кат, и ка-жет-ся он нес-во-ев-ре-мен-ным, заб-ро-шен-ным сю-да еще из да-ле-ко-го бу-ду-ще-го, и уж во вся-ком слу-чае, не от-ра-жа-ющим се-год-няш-не-го дня. Вче-ра я был на мо-ги-ле ве-ли-ко-го Та-мер-ла-на. Там у ка-мен-но-го вхо-да се-до-бо-ро-дые ста-ри-ки с ут-ра до но-чи иг-ра-ют в древ-ние шах-ма-ты, а над тя-же-лой мо-гиль-ной пли-той скло-ни-лись си-нее зна-мя и кон-с-кий хвост. Это кра-си-во, по край-ней ме-ре по-то-му, что здесь нет фаль-ши, ка-кая бы-ла бы, ес-ли бы ту-да пос-та-ви-ли, вза-мен си-не-го, крас-ный флаг.
Ты глуп, -отве-тил я ему спо-кой-но. -У хро-мо-го Та-мер-ла-на есть толь-ко прош-лое, и сле-ды от его же-лез-ной пя-ты день за днем сти-ра-ют-ся жиз-нью с ли-ца зем-ли. Его си-нее зна-мя дав-но выц-ве-ло, а кон-с-кий хвост съеден молью, и у ста-ро-го шей-ха-прив-рат-ни-ка есть, ве-ро-ят-но, сын-ком-со-мо-лец, ко-то-рый-, мо-жет быть, тай-ком еще, но ест уже ле-пеш-ки до за-хо-да сол-н-ца в ве-ли-кий пост Ра-ма-за-на и луч-ше зна-ет би-ог-ра-фию Бу-ден-но-го, брав-ше-го в де-вят-над-ца-том Во-ро-неж, чем ис-то-рию Та-мер-ла-на, пять-сот лет то-му на-зад гро-мив-ше-го Азию.
Нет, нет, неп-рав-да! -го-ря-чо воз-ра-зил Ни-ко-лай. -Ты как ду-ма-ешь, Ри-та?
Она по-вер-ну-ла к не-му го-ло-ву и от-ве-ти-ла ко-рот-ко:
В этом я, по-жа-луй-, с то-бой сог-лас-на. Я то-же люб-лю кра-си-вое...
Я улыб-нул-ся.
Ты, оче-вид-но, ос-леп-ла от сол-н-ца, Ри-та, по-то-му что...
Но в это вре-мя из-за по-во-ро-та го-лу-бой тенью выш-ла за-ку-тан-ная в па-ран-д-жу ста-рая сгор-б-лен-ная жен-щи-на. Уви-дев нас, она ос-та-но-ви-лась и гнев-но за-бор-мо-та-ла что-то, ука-зы-вая паль-цем на про-ло-ман-ный в сте-не ка-мен-ный вы-ход. Но мы, ко-неч-но, ни-че-го не по-ня-ли.
Гайдар, -сказал мне Ни-ко-лай-, сму-щен-но под-ни-ма-ясь. -Мо-жет быть, тут нель-зя... Мо-жет, это свя-щен-ный ка-мень ка-кой--то, а мы усе-лись на не-го и рас-ку-ри-ва-ем?
Мы вста-ли и пош-ли. По-па-да-ли в ту-пи-ки, шли узень-ки-ми улоч-ка-ми, по ко-то-рым толь-ко-толь-ко мог-ли ра-зой-тись двое, на-ко-нец, выш-ли на ши-ро-кую ок-ра-ину. Сле-ва был не-боль-шой об-рыв, спра-ва-холм, на ко-то-ром си-де-ли ста-ри-ки. Мы пош-ли по ле-вой сто-ро-не, но вдруг с го-ры раз-да-лись кри-ки и вой. Мы обер-ну-лись.
Старики, пов-с-ка-кав с мест, кри-ча-ли нам что-то, раз-ма-хи-ва-ли ру-ка-ми и по-со-ха-ми.
Гайдар, -сказал Ни-ко-лай-, ос-та-нав-ли-ва-ясь. -Мо-жет быть, тут нель-зя, мо-жет быть, тут свя-щен-ное мес-то ка-кое?
Глупости! -отве-тил я рез-ко, -Ка-кое тут свя-щен-ное мес-то, ког-да кру-гом ло-ша-ди-ный на-воз на-ва-лен!...
Я не до-го-во-рил, по-то-му что Ри-та вскрик-ну-ла и ис-пу-ган-но от-с-ко-чи-ла на-зад, по-том пос-лы-шал-ся треск, и Ни-ко-лай про-ва-лил-ся по по-яс в ка-кую-то тем-ную ды-ру. Мы еле ус-пе-ли вы-та-щить его за ру-ки, и, ког-да он выб-рал-ся, я заг-ля-нул вниз и по-нял все.
Мы дав-но уже свер-ну-ли с до-ро-ги и шли по гни-лой-, за-сы-пан-ной зем-лей кры-ше ка-ра-ван-са-рая. Вни-зу сто-яли вер-б-лю-ды, а вход в ка-ра-ван-са-рай был со сто-ро-ны об-ры-ва.
Мы выб-ра-лись на-зад и, на-пут-с-т-ву-емые взгля-да-ми мол-ча-ли-во рас-сев-ших-ся опять и ус-по-ко-ив-ших-ся ста-ри-ков, прош-ли даль-ше. Заш-ли опять в пус-тую и кри-вую улоч-ку и вдруг за по-во-ро-том ли-цом к ли-цу стол-к-ну-лись с мо-ло-день-кой уз-беч-кой. Она быс-т-ро на-ки-ну-ла на ли-цо чер-ную чад-ру, но не сов-сем, а на-по-ло-ви-ну; по-том ос-та-но-ви-лась, пос-мот-ре-ла на нас из-под чад-ры и со-вер-шен-но не-ожи-дан-но от-ки-ну-ла ее сно-ва.
Русский? -гор-тан-ным, рез-ким го-ло-сом спро-си-ла она. И ког-да я от-ве-тил ут-вер-ди-тель-но, зас-ме-ялась и ска-за-ла:
Русский хо-рош, сарт плох.
Мы пош-ли ря-дом. Она поч-ти ни-че-го не зна-ла по-рус-ски, но все-та-ки мы раз-го-ва-ри-ва-ли.
И как они жи-вут! -ска-зал мне Ни-ко-лай. -Зам-к-ну-тые, отор-ван-ные от все-го, за-пер-тые в сте-ны до-ма. Все-та-ки какой ди-кий и неп-рис-туп-ный еще Вос-ток! Ин-те-рес-но уз-нать, чем она жи-вет, чем ин-те-ре-су-ет-ся...
Погоди, -перебил я его. -Пос-лу-шай-, де-вуш-ка, ты слы-ха-ла ког-да-ни-будь про Ле-ни-на?
Она удив-лен-но пос-мот-ре-ла на ме-ня, ни-че-го не по-ни-мая, а Ни-ко-лай по-жал пле-ча-ми.
Про Ле-ни-на...-пов-то-рил я.
Вдруг счас-т-ли-вая улыб-ка за-иг-ра-ла на ее ли-це, и, до-воль-ная тем, что по-ня-ла ме-ня, она от-ве-ти-ла го-ря-чо:
Лельнин, Лель-нин знаю!...-Она за-ки-ва-ла го-ло-вой-, но не наш-ла под-хо-дя-ще-го рус-ско-го сло-ва и про-дол-жа-ла сме-ять-ся.
Потом нас-то-ро-жи-лась, кош-кой от-п-рыг-ну-ла в сто-ро-ну, глу-хо на-ки-ну-ла чад-ру и, низ-ко скло-нив го-ло-ву, пош-ла вдоль сте-ны мел-кой то-роп-ли-вой по-ход-кой. У нее был, оче-вид-но, хо-ро-ший слух, по-то-му что се-кун-ду спус-тя из-за по-во-ро-та вы-шел ты-ся-че-лет-ний мул-ла и, опер-шись на по-сох, он дол-го мол-ча смот-рел то на нас, то на го-лу-бую тень уз-беч-ки; ве-ро-ят-но, пы-тал-ся что-то уга-дать, ве-ро-ят-но, уга-ды-вал, но мол-чал и тус-к-лы-ми стек-лян-ны-ми гла-за-ми смот-рел на двух чу-же-зем-цев и на ев-ро-пей-скую де-вуш-ку со сме-ющим-ся от-к-ры-тым ли-цом.
У Ни-ко-лая ко-сые мон-голь-с-кие гла-за, ме-лень-кая чер-ная бо-род-ка и под-виж-ное смуг-лое ли-цо. Он ху-дой-, жи-лис-тый и цеп-кий. Он на че-ты-ре го-да стар-ше ме-ня, но это ни-че-го не зна-чит. Он пи-шет сти-хи, ко-то-рые ни-ко-му не по-ка-зы-ва-ет, гре-зит де-вят-над-ца-тым го-дом и из пар-тии ав-то-ма-ти-чес-ки вы-был в двад-цать вто-ром.
И в ка-чес-т-ве мо-ти-ви-ров-ки к это-му от-хо-ду на-пи-сал хо-ро-шую по-эму, пол-ную скор-би и бо-ли за "по-ги-ба-ющую" ре-во-лю-цию. Та-ким об-ра-зом, ис-пол-нив свой граж-дан-с-кий "долг", он умыл ру-ки, ото-шел в сто-ро-ну, что-бы с го-речью наб-лю-дать за над-ви-га-ющей-ся, по его мне-нию, ги-белью все-го то-го, что он ис-к-рен-но лю-бил и чем он жил до сих пор.
Но это бес-цель-ное наб-лю-де-ние ско-ро на-до-ело ему. По-ги-бель, нес-мот-ря на все его пред-чув-с-т-вия, не при-хо-ди-ла, и он вто-рич-но вос-п-ри-нял ре-во-лю-цию, ос-та-ва-ясь, од-на-ко, при глу-бо-ком убеж-де-нии, что нас-та-нет вре-мя, нас-та-нут ог-не-вые го-ды, ког-да це-ною кро-ви при-дет-ся ис-п-рав-лять ошиб-ку, со-вер-шен-ную в двад-цать пер-вом прок-ля-том го-ду.
Он лю-бит ка-бак и, ког-да выпь-ет, неп-ре-мен-но сту-чит ку-ла-ком по сто-лу и тре-бу-ет, что-бы му-зы-кан-ты иг-ра-ли ре-во-лю-ци-он-но Бу-ден-нов-с-кий марш: "О том, как в но-чи яс-ные, о том, как в дни не-нас-т-ные мы сме-ло и гор-до"... и т. д. Но так как марш этот по боль-шей час-ти не вхо-дит в ре-пер-ту-ар уве-се-ли-тель-ных за-ве-де-ний-, то он ми-рит-ся на лю-би-мом цы-ган-с-ком ро-ман-се: "Эх, все, что бы-ло, все, что ны-ло, все дав-ным-дав-но уп-лы-ло".
Во вре-мя му-зы-каль-но-го ис-пол-не-ния он прис-ту-ки-ва-ет в такт но-гой-, рас-п-лес-ки-ва-ет пи-во и, что еще ху-же, де-ла-ет не-од-нок-рат-ные по-пыт-ки ра-зор-вать во-рот ру-ба-хи. Но вви-ду ка-те-го-ри-чес-ко-го про-тес-та то-ва-ри-щей это ему уда-ет-ся не всег-да, од-на-ко все пу-го-ви-цы с во-ро-та он все-та-ки ухит-ря-ет-ся обор-вать. Он ду-ша-па-рень, хо-ро-ший то-ва-рищ и не-дур-ной жур-на-лист.
И это все о нем.
Впрочем, еще: он лю-бит Ри-ту, лю-бит дав-но и креп-ко. Еще с тех пор, ког-да Ри-та зве-не-ла нап-ро-па-лую буб-ном и раз-ме-ты-ва-ла по пле-чам во-ло-сы, ис-пол-няя цы-ган-с-кий та-нец Брам-са - но-мер, вы-зы-ва-ющий бе-ше-ные хлоп-ки под-вы-пив-ших лю-дей.
Я знаю, что про се-бя он зо-вет ее "де-вуш-кой из ка-ба-ка", и это наз-ва-ние ему страш-но нра-вит-ся, по-то-му что оно... ро-ман-тич-но.
Мы шли по по-лю, за-сы-пан-но-му об-лом-ка-ми зап-лес-не-ве-ло-го кир-пи-ча. Под но-га-ми в зем-ле ле-жа-ли кос-ти пог-ре-бен-ных ког-да-то трид-ца-ти ты-сяч сол-дат Та-мер-ла-на. По-ле бы-ло се-рое, су-хое, то и де-ло по-па-да-лись от-вер-с-тия про-ва-лив-ших-ся мо-гил, и се-рые ка-мен-ные мы-ши при шо-ро-хе на-ших ша-гов бес-шум-но пря-та-лись в пыль-ные но-ры. Мы бы-ли вдво-ем. Я и Ри-та. Ни-ко-лай ис-чез ку-да-то еще с ран-не-го ут-ра.
Гайдар, -спросила ме-ня Ри-та, -за что ты лю-бишь ме-ня?
Я ос-та-но-вил-ся и удив-лен-ны-ми гла-за-ми пос-мот-рел на нее. Я не по-нял это-го воп-ро-са. Но Ри-та уп-ря-мо взя-ла ме-ня за ру-ку и нас-той-чи-во пов-то-ри-ла воп-рос.
Рита се-ла, но не ря-дом со мной, а нап-ро-тив. Рез-ким уда-ром бам-бу-ко-вой трос-ти она сшиб-ла ко-лю-чий цве-ток у мо-их ног
Я не хо-чу, что-бы ты со мной так раз-го-ва-ри-вал. Я те-бя спра-ши-ваю, и ты дол-жен от-ве-чать.
Рита! Есть воп-ро-сы, на ко-то-рые труд-но от-ве-чать и ко-то-рые к то-му же не нуж-ны и бес-по-лез-ны.
Я сов-сем не знаю, что те-бе от ме-ня на-до? Ког-да со мной го-во-рит Ни-ко-лай-, я ви-жу, по-че-му я ему нрав-люсь, а ког-да мол-чишь ты, я ни-че-го не ви-жу.
А за-чем те-бе?
Рита от-ки-ну-ла го-ло-ву на-зад и, не жму-рясь от сол-н-ца, пос-мот-ре-ла мне в ли-цо.
Затем, что-бы сде-лать так, что-бы ты лю-бил ме-ня доль-ше.
Хорошо, -ответил я. -Хо-ро-шо. Я по-ду-маю и ска-жу те-бе по-том. А сей-час пой-дем и за-бе-рем-ся на вер-хуш-ку ста-рой ме-че-ти, и от-ту-да нам бу-дут вид-ны са-ды все-го Са-мар-кан-да. Там об-ва-ли-лись ка-мен-ные сту-пе-ни лес-т-ни-цы, и ни с од-ной де-вуш-кой-, кро-ме те-бя, я не рис-к-нул бы заб-рать-ся ту-да.
Солнечные лу-чи ми-гом раз-г-ла-ди-ли мор-щин-ки меж тем-ных бро-вей Ри-ты, и, от-тол-к-нув-шись ру-кой от мо-его пле-ча, скры-вая улыб-ку, она прыг-ну-ла на со-сед-ний ка-мен-ный утес.
Из пес-ча-ных пус-тынь с пе-ре-сы-пан-ных са-хар-ным сне-гом гор-ных вер-шин дул ве-тер. Он с ярос-тью раз-лас-кав-ше-го-ся щен-ка раз-ма-ты-вал крас-ный шарф Ри-ты и те-ре-бил ее ко-рот-кую се-рую юб-ку, заб-ра-сы-вая чуть-чуть вы-ше ко-лен. Но Ри-та... лишь сме-ет-ся, зах-ле-бы-ва-ясь слег-ка от вет-ра:
Мы пой-дем даль-ше и не бу-дем се-год-ня рас-спра-ши-вать ста-ри-ков.
Я сог-ла-ша-юсь. Ис-то-рия трид-ца-ти ты-сяч ис-т-лев-ших ске-ле-тов мне сей-час ме-нее нуж-на, чем од-на теп-лая улыб-ка Ри-ты.
И мы, сме-ясь, ле-зем на ме-четь. На кру-тых из-ги-бах тем-но и прох-лад-но. Я чув-с-т-вую, как Ри-та впе-ре-ди ме-ня ос-та-нав-ли-ва-ет-ся, за-дер-жи-ва-ясь на ми-ну-ту, и по-том го-ло-ва моя по-па-да-ет в пет-лю ее гиб-ких рук.
Милый! Как хо-ро-шо, и ка-кой чуд-ный го-род Са-мар-канд!...
А вни-зу под се-ры-ми пли-та-ми, под жел-той зем-лей-, в мно-го-ве-ко-вом по-кое спит в ржав-чи-не не-раз-г-ла-жен-ных мор-щин же-лез-ный Ти-мур.
Деньги бы-ли на ис-хо-де. Но нас это ма-ло огор-ча-ло, мы дав-но знали что ра-но или поз-д-но, а при-дет-ся ос-тать-ся без них. Ре-ши-ли взять би-ле-ты до Бу-ха-ры, и там будь что бу-дет.
В ле-пес-т-ках осы-па-юще-го-ся урю-ка, зе-ле-ни рас-пус-ка-ющих-ся са-дов ка-чал-ся по-ту-ха-ющий диск ве-чер-не-го сол-н-ца. На-пос-ле-док мы си-де-ли на бал-ко-не, про-пи-тан-ном пря-ным за-па-хом душ-но-го ве-че-ра, и мир-но бол-та-ли. Было спо-кой-но и теп-ло. Впе-ре-ди бы-ла до-ро-га-длин-ная, за-га-доч-ная, как дым-ка сне-го-вых гор, поб-лес-ки-ва-ющих бе-лы-ми вер-ши-на-ми, как го-ри-зон-ты за жел-тым мо-рем сы-пу-чих пес-ков, как и вся-кая дру-гая, еще не прой-ден-ная и не-пе-ре-жи-тая до-ро-га.
Черта с два! - ска-зал Ни-ко-лай-, зах-ло-пы-вая за-пис-ную кни-гу. -Раз-ве ме-ня за-ма-нишь те-перь в Рос-сию? Что та-кое Рос-сия? Раз-ве там есть что-ни-будь по-доб-ное?...-И он не-оп-ре-де-лен-но по-ма-хал ру-кой вок-руг се-бя. -Все од-но и то же, да од-но и то же. На-до-ело, оп-ро-ти-ве-ло и во-об-ще... Ты пос-мот-ри, пос-мот-ри толь-ко... Вон вни-зу ста-рый шейх си-дит у во-рот, и бо-ро-да у не-го све-си-лась до зем-ли. Он на-по-ми-на-ет мне кол-ду-на из "Ты-ся-чи и од-ной но-чи". Зна-ешь, как это там... ну, где Али-Ахмет...
У хо-зя-ина сда-чи взял? - пе-ре-бил я его.
Взял... Я се-год-ня ле-ген-ду од-ну слы-шал. Ста-рик рас-ска-зы-вал. Ин-те-рес-ная. Хо-чешь, рас-ска-жу?
Нет. Ты пе-рев-решь неп-ре-мен-но и по-том от се-бя по-ло-ви-ну при-ба-вишь
Ерунда! - оби-дел-ся он. -Хо-чешь, Ри-та, я те-бе рас-ска-жу?
Он усел-ся ря-дом с ней и, оче-вид-но, под-ра-жая мо-но-тон-но-му го-ло-су рас-сказ-чи-ка, на-чал го-во-рить. Ри-та слу-ша-ла вна-ча-ле вни-ма-тель-но, но по-том он ув-лек ее и уба-юкал сказ-кой.
Жил ка-кой--то князь и лю-бил од-ну кра-са-ви-цу. А кра-са-ви-ца лю-би-ла дру-го-го. Пос-ле це-ло-го ря-да ухищ-ре-ний с целью скло-нить неп-рис-туп-ную де-вуш-ку он уби-ва-ет ее воз-люб-лен-но-го. Тог-да уми-ра-ет с тос-ки и кра-са-ви-ца, на-ка-зы-вая пе-ред смер-тью по-хо-ро-нить ее ря-дом с лю-би-мым че-ло-ве-ком. Ее же-ла-ние ис-пол-ня-ют. Но гор-дый князь уби-ва-ет се-бя и наз-ло при-ка-зы-ва-ет по-хо-ро-нить се-бя меж-ду ни-ми, и тог-да... Вы-рос-ли над край-ни-ми мо-ги-ла-ми две бе-лые ро-зы и, скло-няя неж-ные стеб-ли, лас-ко-во тя-ну-лись друг к дру-гу. Но че-рез нес-коль-ко дней вы-рос пос-ре-ди них ди-кий крас-ный шиповник и... Так и пос-ле смер-ти его прес-туп-ная лю-бовь разъ-еди-ни-ла их. А кто прав, кто ви-но-ват - да рас-су-дит в суд-ный день ве-ли-кий Ал-лах...
Когда Ни-ко-лай кон-чил рас-ска-зы-вать, гла-за его блес-те-ли, а ру-ка креп-ко сжи-ма-ла ру-ку Ри-ты.
Нет те-перь та-кой люб-ви, -не то нас-меш-ли-во, не то с го-речью, мед-лен-но и ле-ни-во от-ве-ти-ла Ри-та.
Кого-нибудь! Зна-чит, те-бе все рав-но?
Почему же все рав-но?
Значит, ес-ли бы ты не встре-тил ме-ня, то все рав-но лю-бил бы сей-час ко-го-ни-будь?
Возможно...
Рита за-мол-ча-ла, по-тя-ну-лась ру-кой к цве-там, и я ус-лы-шал, как хрус-т-ну-ла в тем-но-те об-ло-ман-ная ве-точ-ка урю-ка.
Послушай, -сказала она, -а ведь так не-хо-ро-шо как-то вы-хо-дит. Как буд-то у жи-вот-ных. Приш-ла по-ра - зна-чит, хо-чешь не хо-чешь, а лю-би. П
Аркадий Гайдар
Всадники неприступных гор
Часть первая
Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто – привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.
И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.
Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг – зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.
И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.
Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.
Все это – глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.
Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, – пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.
А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет – батальоном. В 17 лет – пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет – в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.
Весною я окончил книгу. Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.
Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.
И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.
– Рита! – сказал я девушке, которую любил. – Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.
– Понятно, – сказала она, подумав немного, – понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.
– Рита, – ответил я резонно. – Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.
Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.
Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:
– Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.
– Рита, – ответил я твердо, – на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.
– А я что?
– А ты ничего. Ты будешь зачислена «в резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.
Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.
Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!
– В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично, – восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.
Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через «ять», хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:
– Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».
Николай нахмурился, хотя не знаю, что может он иметь против женотдела и революционных песен. Он наш – красный до подошвы, и в девятнадцатом, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.
Мартовской вьюжной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала.
Было почти пусто. Ежась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурный по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка.
– Мне не верится, – сказала Рита.
– Во что?
– В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно.
– А там так тепло. Идем в вагон.
Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу.
– Ты о чем? – спросил я, дергая его за рукав.
– Буран, вьюга. Не может быть, чтобы там цвели уже розы!
– Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уж зелень – это ясно.
– Я люблю цветы, – сказал Николай и осторожно взял Риту за руку.
– Я тоже, – ответила ему она и еще осторожней отняла руку.
– А ты? – И она посмотрела на меня. – Что ты любишь? Я ответил ей:
– Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя.
– Кого больше? – спросила она, улыбаясь. И я ответил:
– Не знаю.
А она сказала:
– Неправда! Ты должен знать. – И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи.
Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кзыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка.
Сначала мы жили в гостинице, потом перебрались в чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой, переполненной впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острою пылью солнечных лучей.
Тогда владелец чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной домбры-дютора поют тягучие, непонятные песни.
Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков и визг верблюдов да постукивание уличных кузнецов возле крытого базара.
Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.
– Мне нравится этот город, – сказал Николай. – Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.
И только мы собрались, как со всех сторон обложили нас белогвардейские банды. И стали мы с боем отступать и так отступали три дня и три ночи, и все с боем, пока наконец не забрались оставшиеся из нас двенадцати человек живых при одном орудии в такую чащу, что бросили нас преследовать белые.
И стали промеж собой говорить тогда бойцы: "Жить нам тут без провианта нельзя, а потому надо нам поодиночке пробираться к людям. А лошади у нас из-под орудий сдохли, и мясо их разрезали на куски и поделили между собой, а потом распрощались друг с другом, и пошел каждый в свою сторону. И только я один по причине ранения в ноге остался и сказал, что подожду идти либо день, либо два, пока не заживет. А на второй день встретился я с заблудившим белобандитом, и саданул он пулей мне в бок, на что я, не растерявшись, ответил ему тем же. И когда повалились мы оба, то посмотрели друг на друга и решили, что теперь квиты. И так мы с этим белобандитом провалялись на земле неделю, питаясь кониной и сухарями из его мешка, а после чего, выздоровевши, наткнулись нечаянно на дикую пещеру, в которую и перешли жить ввиду наступивших холодов. И однажды он, обследуя эту пещеру, открыл в ней реку с золотоносным песком и, когда я был в сонном состоянии, ударил меня в голову тяжелым поленом и с тех пор куда-то скрылся.
Имя ему было Сергей, по фамилии Кошкин, а какой губернии и уезда, не знаю".
Не все, - перебила его Вера, - почему он назвал нас товарищами, а Штольца задушил?
При упоминании этой фамилии умирающий вздрогнул, поднял голову и сказал хриплым, надломленным голосом:
Задушил… задушил… за нагайки, за измену и за все…
Он узнал его. Ясно, что у Штольца фамилия была не настоящая, - шепотом добавила Вера и, посмотрев на Реммера, сказала: - Теперь ты знаешь все… Больше даже, чем нужно.
Да, - ответил Реммер, - больше даже, чем нужно, и про Штольца и про проделки концессионеров, про все…Теперь, когда мы вернемся… буря будет не маленькая…
Всю эту банду с мистером Пфуллем выметут прочь к себе. Они сорвались на этот раз.
Старый партизан умер, когда рассвело. Умер, крепко прижимая к груди сигнальный рожок, один из тех, которые давно-давно когда-то протрубили смерть и генералу Гайде и всем прочим генералам белых банд.
И только теперь, днем, товарищи увидели настоящий широкий выход из пещеры, обращенный в сторону, совершенно противоположную той, с которой его искали.
А лучи, широким потоком ворвавшись в проход, ласково падали на седую голову умершего человека и перебегали светлыми пятнами по старому, пыльному знамени, много лет стоявшему над изголовьем старого красноармейца .
1926–1927
Всадники неприступных гор*
Часть первая
Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто - привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.
И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.
Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг - зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.
И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.
Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.
Все это - глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.
Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина, - пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.
А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет - батальоном. В 17 лет - пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет - в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.
Весною я окончил книгу . Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем издательствам скопидомству деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.
Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.
И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.
Рита! - сказал я девушке, которую любил. - Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.
Понятно, - сказала она, подумав немного, - понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.
Рита, - ответил я резонно. - Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.
Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.
Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:
Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.
Рита, - ответил я твердо, - на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.
А ты ничего. Ты будешь зачислена "в резерв Красной Армии и Флота" до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.
Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.
Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!
В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично, - восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.
Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через "ять", хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:
Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались "Кирпичики".
Похожие статьи
-
Что изучает лексикология?
В данной статье речь пойдет о лексикологии. Что она изучает, что из себя представляет, на какие разделы делится и какими обладает способами действия, мы рассмотрим именно здесь.ВведениеЛексикология является лингвистическим разделом,...
-
Тайна смерти аньес сорель раскрыта Ну и не могу не вернуться к живописи несмотря на увлекательные истории:)
Ее портреты сейчас выглядят немного странно: миловидная девушка с кротким выражением лица и вывалившейся из платья грудью. Это не фантазии художников, а реальная мода, которую Агнесса Сорель ввела во Франции в 15 веке. Фаворитка Карла VII...
-
Центростремительное ускорение при движении по окружности: понятие и формулы
Так как линейная скорость равномерно меняет направление, то движение по окружности нельзя назвать равномерным , оно является равноускоренным . Угловая скорость Выберем на окружности точку 1 . Построим радиус. За единицу времени точка...
-
Произведение вектора на число
Матрица размеров m на n. Матрицей размера m на n называется совокупность mn вещественных чисел или элементов другой структуры (многочлены, функции и т.д.), записанных в виде прямоугольной таблицы, которая состоит из m строк и n...
-
Перспективный план работы кружка «Путешествие в страну опытов и экспериментов» на II полугодие (старшая группа) Заставьте мельницу работать
Скачать: Предварительный просмотр:муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №17 комбинированного вида « Земляничка» КОНСТРУКТ непосредственно-образовательной деятельности образовательная область «...
-
Все мы под апофисом ходим
По предварительным прикидкам, Апофис может рухнуть на полосу шириной 50 километров, пролегающую через Россию, Тихий океан, Центральную Америку и уходящую дальше в Атлантику. На конференции в Сан-Франциско (США) сформирована группа...